Исмагил Гибадуллин. Беседы об Исламской революции. Ч. 3. Персы и тюрки

Настоящая беседа посвящена взаимодействию двух важных этнических составляющих Ирана и значительной части мусульманского мира – персов и тюрков. Эта тема не имеет прямого отношения к Исламской революции, однако разговор о тюрко-персидском взаимодействии позволяет лучше понять, как формировался культурный и политический ландшафт этого региона, почему так по-разному складывают судьбы Ирана и соседних с ним стран.
ТЮРКО-ПЕРСИДСКИЙ СИНТЕЗ
— Сегодня мы продолжим говорить о средневековой тематике. На прошлой беседе нам удалось охватить не все вопросы по истории ислама в Иране. Хотелось бы подробнее поговорить об этнических вопросах. В прошлый раз ты рассказывал очень интересные вещи о взаимодействии исламского мира с тюрками. Ты их описал как носителей ибнхалдуновской «асабийи». Это влияние было в целом негативным?
Я бы не стал давать каких-то оценок. Это было бы просто некорректно с исторической точки зрения. Без тюркского фактора историю мусульманского мира невозможно представить. Тюрки принимали активное участие во всех масштабных исторических процессах на территории исламского мира, начиная с эпохи раннего Аббасидского халифата. Конечно, это участие можно проанализировать с метаисторической точки зрения, так сказать, обрисовать его крупными мазками. Изначально мусульманский мир столкнулся с тюрками как создателями обширных и мощных кочевых империй. Арабы вели в VII-VIII веках войны с Тюркским и Хазарским каганатами. К тому времени тюрки уже успели завоевать территории, заселенные ираноязычными народами, включая процветавшие города и оазисы Восточного Туркестана и Средней Азии, где они контактировали с согдийцами, тохарами, эфталитами.
Здесь лучше даже отдельно поговорить о тюрко-иранском взаимодействии, которое началось в доисламский период. Это взаимодействие прослеживается с настолько древних времен, насколько вообще можно говорить о существовании тюрков как отдельной языковой и этнокультурной группы в Евразии. Как известно, весь ареал евразийских степей от Дуная до Алтая на протяжении долгого времени был заселен индоевропейскими народами, в I тысячелетии до н.э. в основном ираноязычными, то есть скифами, сарматами, аланами, саками, массагетами. Очагом возникновения тюрков были районы Северного Китая, и они изначально были связаны с другими народами алтайской языковой семьи – монгольскими и тунгусо-маньчжурскими, однако на древнем этапе начали экспансию на запад, в ираноязычный степной мир. Еще в эпоху хунну китайские источники описывают этот народ как обладателей выступающих носов и более густой растительности на лице. То есть имели место процессы метисации с иранскими народами, и это хорошо прослеживается на археологическом материале в Алтае и на территории Казахстана. Хунны активно взаимодействовали с согдийцами, которых китайцы называли «юэчжи», воспринимали их городскую культуру, заимствовали много слов. Это иранское культурное влияние на тюрков является очень древним, и отдельные его следы можно найти даже у якутов и долганов, которые мигрировали на север, в область расселения палеоазиатских народов Крайнего Севера. Поэтому тюрки – это общность, которая формировалась в условиях плотного взаимодействия с ираноязычными народами, и чем дальше на запад продвигались тюрки, тем больше их культура включала в себя иранских элементов. Более тысячи лет понадобилось тюркам, чтобы полностью освоить степной пояс Евразии и растворить в себе его прежнее ираноязычное население. Это сказалось на антропологическом облике всех тюркских народов, которые чаще всего принято ассоциировать с так называемой туранской расой, которая является переходной между большой европеоидной и монголоидной расами. Конечно, на пути тюрков были не только ираноязычные народы, но иранский культурный компонент был основным, и он оказался как бы вшит в саму плоть тюркского культурного кода.
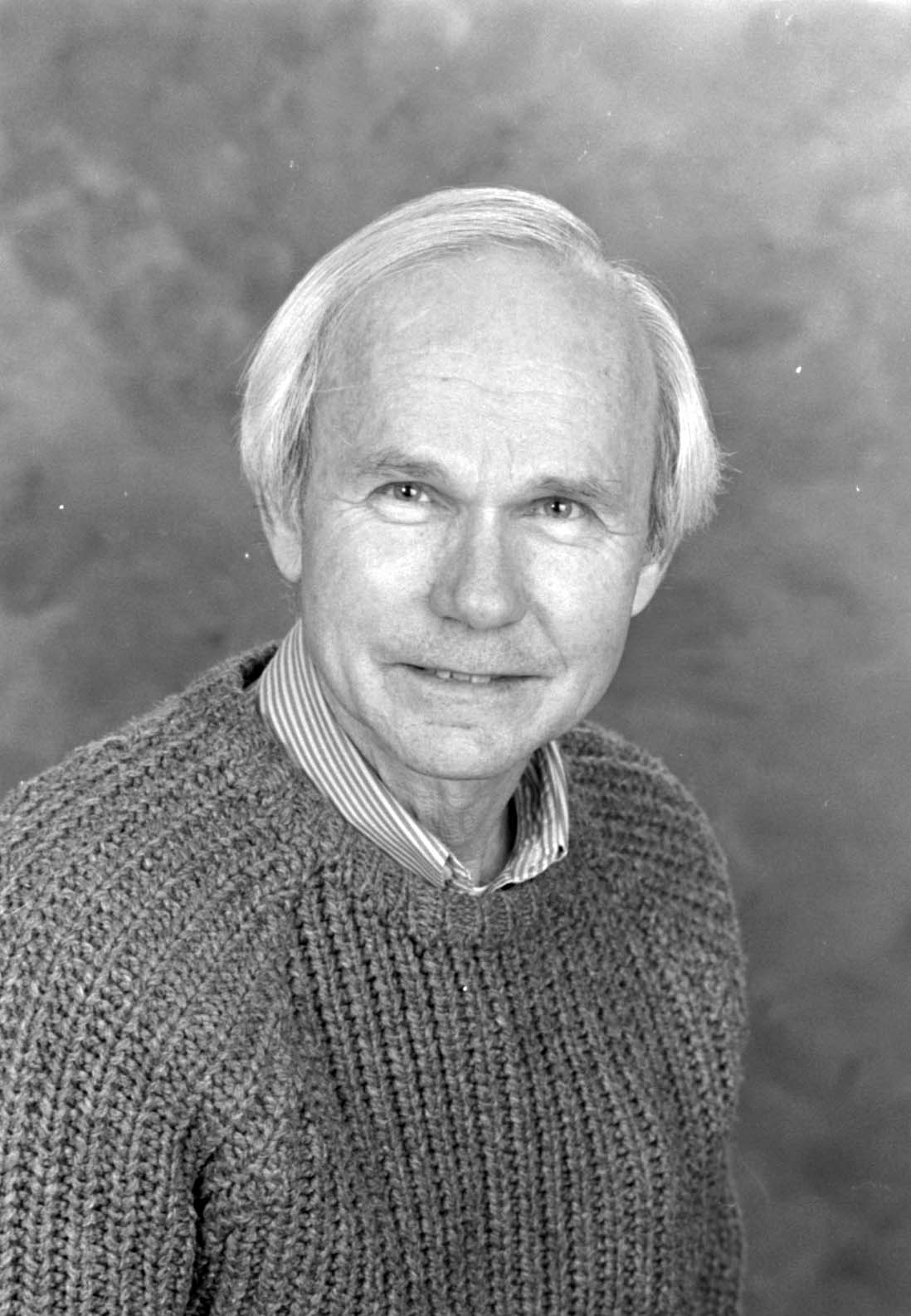
Роберт Кэнфилд / Источник: anthropology.wustl.edu
Этот момент имеет принципиальное значение, потому что он помогает понять природу того, что я называю «тюрко-персидским культурным синтезом». Это именно то, о чем говорит современный американский антрополог Роберт Кэнфилд, который использует термин «Тюрко-Персия». Речь идет о такой форме культурного и цивилизационного взаимодействия между тюрками и иранцами, которое сформировалось в некую неразрывную цельность. Таким образом, можно говорить даже не о двух отдельных и эпизодическим взаимодействующих друг с другом ареалах – тюркском и иранском, а о едином ареале, на котором тюркский и иранский факторы взаимодействовали как части органичного и единого целого, единого культурного, политического, экономического пространства. В этом пространстве тюрки и персы не потеряли своей самобытности, сложился некий симбиоз, в котором они занимали определенные ниши. Конечно же, центром этого синтеза была Средняя Азия как часть Большого Ирана. Иран в нынешних политических границах тоже включился в этот синтез, хотя несколько позже, и тюркская составляющая там проявляла себя менее ярко.
Эта дуальность очень неожиданно проявилась в мифе об Иране и Туране, который присутствует в «Шах-наме» и восходит к эпохе древнего противостояния между персами и ираноязычными народами Средней Азии. Этот миф был своеобразно переосмыслен и самими тюрками, так что Туран стал ассоциироваться именно с тюркским кочевым миром, потому что регион был заселен тюрками, и само его название казалось созвучным слову «тюрк», хотя в действительности оно скорее всего восходит к названию древних тохаров – индоевропейского населения Восточного Туркестана. Сами тюркские правители и тюркоязычные авторы стали использовать термин Туран для обозначения тюркского ареала или некой мифической прародины тюрков. Это совершенно замечательное свидетельство того, как тюрки вписались в эпическую картину мира иранцев и заняли в ней свое место.

Немецкая «Карта Ирана и Турана», датированная 1850 годом (во времена династии Каджаров). Территория Турана обозначена оранжевой линией (здесь усилено). Название «Туран» появляется к востоку от Аральского моря. Согласно легенде (внизу справа на карте), Туран охватывает территории современных Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и северные провинции Афганистана и Пакистана. Эта область примерно соответствует современной Центральной Азии / Источник: ru.wikipedia.org
Что примечательно, что подобный синтез между арабами и тюрками или арабами и персами не имел столь широких масштабов и не происходил на протяжении столь длительной исторической перспективы. В условиях тюрко-персидского синтеза или симбиоза получилось некое распределение ролей: тюрки были воинским сословием, и, соответственно, они были правящей верхушкой, правителями, а персы заняли нишу интеллектуальной элиты, и в этом качестве были интегрированы и в политическую элиту – как визири, секретари диванов, бюрократический аппарат, без которого тюрки не могли бы эффективно управлять этими территориями. Средневековые авторы говорили условно о тюрках как о «людях меча» (ахль ас-сайф), а о персидских интеллектуалах – как о «людях пера» (ахль аль-калам). Еще более удачно суть синтеза выразил средневековый тюркский ученый Махмуд аль-Кашгари, который в «Диван-и люгат ат-тюрк» сказал, что «не бывает тюрка без перса, как не бывает шапки без головы».
Тюрки правили землями Большого Ирана, начиная с эпохи Газневидов, то есть в Х веке. Потом на смену им пришли сельджуки, которые захватили всю территорию Ирана. После них были хорезмшахи, потом было монгольское нашествие, которое вообще изменило кардинально политическую культуру мусульманского Ирана, ну а дальше за редкими исключениями, если не брать какие-то местные локальные случаи, все династии, правившие Ираном, были тюркскими. Даже основатель последней династии Пехлеви, Реза-хан, выходец из Гиляна, был по происхождению тюрком, владел разговорным азербайджанским языком, и его жена Тадж оль-Мольк, мать наследника Мохаммад-Резы Пехлеви, тоже была азербайджанкой из рода Айромлу. Тюрками не были, пожалуй, только Зенды, но они правили лишь частью Ирана и на протяжении не очень долгого времени во второй половине XVIII века.

Тюркский мир по Махмуду Кашгари — первая известная науке карта расселения тюркских племён (XI век) / Источник: ru.wikipedia.org
Сегодняшний Иран – это по-прежнему часть тюрко-иранского ареала. Как минимум, треть его населения говорит по-тюркски. Как я уже говорил, обращение Ирана в шиитский ислам происходило не только благодаря распространению околошиитской гетеродоксной футтувы, но и благодаря тюркским саблям кызылбашей. На мусульманском Востоке также действовал принцип «чья власть, того и вера». Азербайджан, который был колыбелью кызылбашей и Сефевидов, стал примером наиболее стремительной тюркизации в XV-XVII веках. Всё население там, говорившее ранее на западно-иранских наречиях, близких к талышскому, перешло на тюркский язык. Этот процесс начался даже еще раньше, когда в Азербайджане располагалась столица монгольских Ильханидов, и там сосредоточилось тюркское население. Для современного Ирана это, конечно же, до сих пор один из ключевых регионов, как в культурном, так и в экономическом и политическом смысле. Особенно, в свете модернизации именно Азербайджан стал проводником новых идей, за счет своей близости к российскому Закавказью, к Тифлису, который был тогда плавильным котлом и местом усвоения мусульманами европейских влияний.
ИРАНСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИРАНА
— То есть в современном Иране роль тюрков уже не ограничивается военными занятиями?
Да, конечно. Современный Азербайджан сыграл также важную роль в Исламской революции. Именно в Тебризе вспыхнуло первое крупное городское восстание в поддержку сторонников Имама Хомейни. Надо сказать, что большой процент деятелей революции был азербайджанским, включая нынешнего Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллу Сейеда Али Хаменеи, который является этническим азербайджанцем, выросшим в Хорасане. Тюркский фактор не ограничивается азербайджанцами. Тюрки настолько широко расселены по всему Ирану, вплоть до исконно персидских земель, вроде провинций Хамадан и Шираз, что их присутствие повсеместно. Урбанизация и миграционные процессы еще больше усилили эту дисперсность тюрков. Треть населения Тегерана владеет разговорным тюркским, и много тюркоязычных иранцев проживает в других мегалополисах страны, в том числе на традиционно арабском юго-западе, в Ахвазе и Абадане, центрах нефтяной промышленности Ирана. Причем, у подавляющего большинства иранских тюрок сильная иранская идентичность. Однажды я летел на самолете из Тегерана в Мешхед, и со мной рядом сидел азербайджанец из Тебриза, который работает там школьным учителем. Мы с ним разговаривали на азербайджанском языке, который был для него родным, и он мне с пеной у рта доказывал, что корни у его сородичей не тюркские, что они не имеют никакого отношения к монголам или тюркам, они исконные иранцы, перешедшие на тюркский язык. В доказательство он приводил мне примеры того, что они придерживаются всех иранских традиций, вроде празднования Навруза, других календарных праздников. Конечно, с ним можно было бы поспорить, тем более, что у очень многих иранских азербайджанцев очень узнаваемый антропологический тип: лица скуластые, есть некоторая раскосость в глазах, и эти монголоидные признаки, нарастают по мере отдаления от Закавказья и движения в южном направлении, в сторону Казвина и Хамадана. Тем не менее, иранское гражданское самосознание у них достаточно сильное, и в культурном плане надо признать, что иранские азербайджанцы – это неотъемлемая часть Ирана. И даже азербайджанский, на котором они говорят – это очень специфический тюркский язык, в котором не только персидская лексика иногда превалирует над тюркской, но и грамматическая структура буквально копирует структуру персидского языка. Я сейчас говорю даже не о тех городских койне, которые имеют хождение в Тегеране или Тебризе, а в литературном азербайджанском. Об этом я в силу своего интереса к тюркскому языкознанию и тюркологии мог бы говорить очень долго и подробно, но думаю, это было бы сейчас излишне.
ТЮРКСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭТОС
— А как бы ты в целом охарактеризовал вклад тюрков в этот тюрко-персидский синтез? И в чем был вклад персов?
Тюрки были интегрирующей в политическом плане силой. Можно сказать, они политически форматировали исламский мир. В прошлой беседе я уже говорил, что тюрки, даже будучи исламизированными, сохраняя племенную структуру и элементы кочевого образа жизни, в наибольшей мере были проводниками той самой ибнхалдуновской «асабийи». Они изменили политическую культуру: благодаря им происходит подъем султанатов, которые перестают нуждаться в религиозной легитимации со стороны халифов. Султан – это ведь коранический термин, и он означает «власть». Таким образом, тюрки неосознанно привносили в мусульманское политическое сознание новые элементы. Особенно это характерно для эпохи монгольских завоеваний, когда в суннитском мире под угрозой оказалось существование не только халифата, но и всей системы шариатской законности, ведь монголы устанавливали новые порядки, основанные на зонах чингизовой Ясы. Они также принесли с собой идею «небесного мандата» на правление, которая лежала в основе эксклюзивного права Чингизидов на власть. В последующем уже тюркские правители, не принадлежавшие к Чингизидам, тоже пытались опираться на подобие «небесного мандата». Так появился термин «сахиб-киран», то есть «рожденный под счастливым сочетанием звезд». Это было официальное именование Тамерлана и многих других тюркских мусульманских правителей, которые обладали харизмой и военным гением. Некоторые иранские историки обвиняют тюркский фактор в том, что история Ирана столетиями была постоянной кровопролитной борьбой за власть между племенными вождями и ханами, опиравшимися на свои полукочевые дружины.
Еще одним источником поддержания легитимности султанов в мусульманском мире было покровительство религии и улемам. Зачастую это выражалось в одностороннем покровительстве какому-то одному течению или школе. Например, своим широким распространением ханафитский мазхаб, очень рано закрепившийся в Мавераннахре, обязан именно тюркским правителям. Ему покровительствовали сельджуки, хорезмшахи, Караханиды, Тимуриды, потом Османы и Моголы. Поэтому он распространился от Балкан до Бангладеш. Некоторые авторы считают, что причиной такой популярности ханафитской школы среди тюрков было наличие некоторых послаблений, меньшей строгости некоторых норм, позволявшей правителям с помощью некоторых ухищрений обходить некоторые ограничения и вести не вполне исламский образ жизни. Прежде всего речь шла об употреблении некоторых традиционных алкогольных напитков, которые тюрки-кочевники зачастую не оставляли даже после перехода в ислам. Сложно судить, так это было или нет, но в целом нормы ханбалитского и шафиитского мазхабов, действительно, более строгие. Проблема была в том, что мазхаб чаще всего еще и насаждался силой. В Средней Азии и Хорасане в результате сельджукской политики практически не осталось ни шафиитов, ни ханбалитов.

Фирман Гайхату (ильхана государства Хулагуидов, 1291-1295) на тюркском и персидском языках / Источник: en.wikipedia.org
И здесь в иранской историографии тоже имеется точка зрения о том, что формирование культуры нетерпимости и принуждения в религии (которое считается недопустимым, согласно аяту Корана о том, что «нет принуждения в религии») – это во многом наследие эпохи политического доминирования тюркских династий. Те же самые Сефевиды огнем и мечом насаждали шиитскую ветвь ислама, вытесняя из городов суннитских ученых и суфиев накшбандийского тариката, хотя ранее в этих городах царил больший плюрализм, друг с другом уживались представители разных течений и мазхабов. Например, в Х веке дейлемитская династия Буидов, пришедшая к власти в Ираке, не стала насаждать шиизм имамитского толка или ликвидировать институт халифов. Напротив, в этот период в Багдаде сложилась достаточно открытая интеллектуальная среда, в которой шиитские ученые общались с мутазилитами и ашаритами, развивался фикх всех религиозно-правовых школ. Упадок плюрализма и интеллектуальной свободы в мусульманском мире, за которым последовал закат философии и подъем нетерпимости, хронологически действительно совпадает с началом доминирования тюркских династий. Поэтому среди иранских историков есть мнение, что в этом опосредованно проявилось тюркское влияние.
Если говорить о тюркской, точнее о тюрко-монгольской политической культуре, то, конечно же, изначально она была достаточно жесткой. Скорее всего, это объясняется тем, что генетически она связана с Восточной Азией с ее специфическим этатизмом и сакрализацией государства. У тюрок была идея державы, так называемого «эля» или «будуна». В Тюркском каганате было понятие «вечный эль тюркского народа», в котором уже чувствуется абсолютизация власти. С другой стороны, источником легитимности считались завоевательные походы, военная мощь, военный гений. За этой политической культурой скрывалась и определенная философия, о которой я уже сказал в беседе об «асабийи». В ее основе была почти ницшеанская идея «воли к власти». Высшее начало, как оно понималось в рамках этой культуры, проявлялось в реализации этой воли к власти и подавлению. Вспомним знаменитые слова, приписываемые Чингисхану. Он говорил, что «самая большая радость для мужчины — это побеждать врагов, гнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен». Вот именно эти слова хорошо отражают саму суть тюркской и монгольской «асабийи». Разумеется, государство или держава рассматривались как высшее проявление этой сакральной воли к власти, подавлению. В последующем эта суть была несколько затушевана идеологически исламом, но она сохранялась в самой основе мусульманской государственности. Поэтому в Османской империи мы видим исламскую легитимацию таких жестоких и противоречивших исламу законов, как уничтожение султаном всех братьев как потенциальных претендентов на престол ради сохранения единства державы, которое оправдывалось кораническим аятом «Смута хуже убийства» (аль-фитнату ашадду мин аль-катль). Тем не менее, именно эта политическая культура структурировала мусульманское цивилизационное пространство на протяжении столетий, причем способствовала расширению мусульманской ойкумены. Экспансионизм тюрков и политический этос держал мусульманский мир в тонусе и расширял его границы на запад, север и восток.

Османский сипах в бою, держа в руках знамя с полумесяцем / Источник: en.wikipedia.org
Тюркский политический этос оказался очень живучим. Он через наследие Золотой Орды серьезно повлиял и на российский политический этос и в наиболее сублимированнной форме проявился, пожалуй, в советский период, окончательно очистившись от византийских традиций и идей Третьего Рима. За толщей коммунистической идеологии проступала идея власти ради власти, самоценности власти и силы как самодовлеющего начала, не нуждающегося ни в идеологическом, ни в религиозном, ни в морально-этическом обосновании. Эта философия нашла продолжение в идеологии той группы постсоветской элиты, которую даже на Западе принято называть Silovik, и она хорошо отражена в современной российской постмодернистской литературе, в творчестве Виктора Пелевина или даже Владислава Суркова.
Этот этос, конечно же, во многом является антиподом политического этоса авраамических монотеистических религий, которые тяготеют к теократии или религиозной легитимации власти. Точно также он противоречит британской в своей основе идее общественного договора и либеральному этосу. Тюркский политический этос также выжил и в Турции. Освободившись от исламского влияния, он вылился в идеалы Турецкой республики, созданной Ататюрком на обломках Османской империи. Ататюрк, точнее Мустафа Кемаль-паша, опирался на воинский этос, он возглавил национально-освободительное движение, а потом возродил тюркский идеал «будуна». Становым хребтом республики стала военная элита, которая через серию военных переворотов (в 1960, 1971, 1980 и 1997 годах) сохраняла стабильность политической системы. Для турок архетип воина или военачальника как спасителя сохраняет свое значение и сегодня. Он выкристаллизовывается в культе личности Ататюрка – патриархального отца нации. Этот момент важен, потому что в Иране этот архетип и вытекающий из него политический этос в итоге был вытеснен другим архетипом – шиитским архетипом Имама, идеального духовного лидера.

Мустафа Кемаль Ататюрк / Источник: thoughtco.com
ШАХИ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ВИЗИРИ
— А персидский политический этос как себя проявлял? Вообще был ли такой этос?
Персидский политический идеал, который коренился в зороастрийской картине мира, тоже был. Проявлял он себя по-разному. У персов была концепция некой Божественной харизмы, так называемого «фарр-е изади». Ее визуально изображали в виде некой крылатой сущности, которую можно видеть на древнеперсидских барельефах. Эта концепция имеет под собой религиозное обоснование. Правитель понимается как «тень Бога на земле». Этот идеал, конечно же, ближе к теократии, чем к тюркскому политическому этосу «вечного эля». Поэтому в персидской традиции была велика роль священнослужителей. В Сасанидском Иране это были мобеды, которые занимались разъяснением религии и ее законов. Во главе иерархии мобедов стоял «мобедан-мобед» — это прямой аналог исламского термина «шейх аль-машаих», верховный священнослужитель, который обладал не меньшим авторитетом, чем «шахиншах» («царь царей»). В Сасанидском Иране священнослужители пользовались своей духовной властью, чтобы смещать царей. Если в тюркском политическом этосе роль священнослужителя минимальна, то в персидском политическом этосе царь, апеллирующий к Божественному, вынужден опираться на авторитет духовенства. И не меньшую роль в этой системе играли профессиональные чиновники-вузурги – это прообраз будущих визирей.
В исламский период оба политических идеала продолжали существовать дальше, получив внешне исламское оформление. Поэтому, кстати, Саманидам и понадобилось возродить эпические сказания о древних иранских царях, сведенные в эпос «Шах-наме», который в окончательном виде был представлен Фирдауси уже при Газневидах, тюркской династии, не пренебрегавшей иранскими политическими мифами для обоснования своих претензий на власть. В рамках начавшегося складываться тюрко-персидского синтеза тюркские правители быстро освоились с ролью персидских царей, включив в свою титулатуру именование «шах» или «падишах» и сравнивая себя с легендарным Джамшидом или сасанидским Хосровом. Зачастую они даже брали себе имена царей из «Шах-наме», как правители анатолийских сельджуков Ала ад-дин Кей-Кубад, Кей-Хосров и Кей-Кавус. В то же самое время духовная и интеллектуальная ниша была занята персами – прослойка улемов и профессиональных управленцев-визирей пополнялась в основном персами. Утратив политическое лидерство, персы нашли для себя лазейку в виде института визиря. На эту должность попадали ловкие царедворцы, хорошие администраторы и мастера интриг, которых, как правило, отличал высокий интеллектуальный уровень, хорошее образование, наличие художественного вкуса. Такая стратегия политической карьеры стала естественной для образованного перса. Наиболее ярким примером, я думаю, является Низам аль-Мульк, визирь сельджукских султанов, который идеально выполнял эту роль. Функция визиря, по сути, состояла в том, чтобы незаметно оторвать правителя от тюркского политического этоса и так же незаметно и мягко приобщить его к иранскому политическому идеалу. Это нашло выражение в многочисленных наставлениях царям, разного рода дидактических сочинениях, содержавших политическую мудрость эпохи Сасанидского Ирана, как правило, апеллировавшую к периоду правления Хосрова Ануширвана. Этот правитель считался эталоном справедливости, и мусульманские авторы даже приводили предания со слов пророка Мухаммада о том, что он не будет наказан адским огнем за свою справедливость. Известно высказывание Пророка: «Я родился в эпоху справедливого правителя» (вулидту фи ахди хаким аль-адиль), что воспринималось как прямое указание на Хосрова Ануширвана.

Изображение Хосрова Ануширвана в здании тегеранского суда (1940) / Источник: ru.wikipedia.org
МЯГКАЯ СИЛА ПЕРСОВ
— То есть персы действовали мягко? Это была мягкая сила?
Да, можно сказать и так. После прихода в Иран ислама персы действительно перестали быть военной или имперской силой на Среднем Востоке. С этого моменты персидское влияние стало в большей степени культурным. Именно исламизация персов сделала их такой силой и позволила их влиянию шагнуть далеко за пределы имперских границ Сасанидского Ирана. Персидский язык приобрел ключевое значение для всей исламской цивилизации. Если арабский язык оставался языком Божественного откровения, хадисов, исламского богословия, то персидский язык стал по-настоящему языком культуры. В некоторых областях он вытеснил арабский. Что еще более важно для нас в данном случае – это то, что персидский стал первым исламизированным языком. Это был первый язык, вступивший во взаимодействие с арабским языком и литературой. За те самые «два века молчания», о которых говорит Абдольхосейн Зарринкуб, возникла мощная интеллектуальная прослойка арабоязычных персов, освоивших весь комплекс богословских знаний, доступных тогда мусульманам, и стремившихся расширить его за счет изучения и перевода на арабский философских текстов с греческого, сирийского, пехлеви и даже санскрита. В этой среде формируется новый язык, так называемый новоперсидский, то есть классический фарси, который и по сей день является официальным языком в Иране и Афганистане. Этот язык, в отличие от среднеперсидского, содержал в себе изрядную долю арабских заимствований, а главное, он приспособил под себя, и очень удачно, арабскую графику, введя в нее дополнительные буквы. Определенные трансформации произошли и в грамматике, и в морфологии языка. Что интересно, персами была усвоена арабская система стихосложения, так называемый «аруз». Это произвело настоящую революцию в культуре персов, сделав их почти самой поэтической нацией на всем Востоке.
Таким образом, именно на исламской основе персидская культура стала развиваться в новых направлениях, стала более открытой для разных культурных заимствований, и это напрямую сказалось на характере их участия в развитии мусульманской цивилизации, в особенности, в рамках тюрко-персидского синтеза. Персы проявили себя в качестве интеллектуалов, факихов, философов, мистиков и суфиев, основателей новых идейных и религиозных направлений и течений, иногда гетеродоксных и еретических. Если изучать интеллектуальную историю исламского мира, динамику культурных преобразований и эволюции идей в средневековых мусульманских обществах, то мы видим там преобладающую роль персов или деятелей, сформировавшихся на этой персоязычной интеллектуальной традиции. Здесь было бы уместно вспомнить о таком термине, как «персофония», который ввел современный австрийский ученый-иранист и тюрколог Герберт Фрагнер. Он как раз и показал процесс появления фарси как первого исламизированного языка, который стал образцом или моделью для формирования всех остальных исламизированных языков.

Иллюстрация к популярной суфийской поэме «Собрание птиц» Аттара / Источник: ru.wikipedia.org
Персофония – это персоязычное культурное пространство, которое включает в себя не только литературу на фарси, но и средневековый тюрки во всех его основных версиях, будь то хорезмийский тюрки, османский, чагатайский, волго-уральский. Сюда же он относит и некоторые другие мусульманские языки, развивавшиеся под влиянием персидского, например, урду. Все эти языки формировались по лекалам фарси, с заимствованием его вокабулярия и графики, калькированием его грамматических форм, морфологии. Мне самому посчастливилось изучать разные средневековые тюркские тексты, и я, можно сказать, воочию увидел, как развивались эти языки. Писавшие на них авторы буквально думали на фарси и писали по-тюркски. В некоторых случаях тюркскими там были только какие-то аффиксы и вспомогательные частицы, тогда как сам текст был перегружен арабо-персидскими словами. Ярче всего это проявилось в османской языке, который иногда кажется даже не языком с устойчивым набором норм, а продуктом некой языковой игры, активного языкового творчества авторов, которые стремились продемонстрировать блестящее знание арабского и персидского, забывая подчас даже о тюркской грамматике. Подчас невозможно определить, где там присутствует тюркская основа, где заканчивается османский тюрки, и начинается уже чисто арабский или персидский текст. Это качество присутствует и в самом фарси, который был прекрасно приспособлен для нужд билингвальных персидских интеллектуалов, свободно сочетавших арабский язык с персидским, и как бы включавших арабский язык в тело этого нового исламизированного персидского языка.
Получается, персидский язык и формируемая им культурная среда играли посредническую роль в исламизации почти всех неарабских народов, пожалуй, за исключением Магриба и Африканского континента, ну и, наверное, некоторых регионов в бассейне Индийского океана. То есть исламизация огромного ареала от Балкан до границ Китая и от Сибири до Танзании происходила под знаком доминирования персидского языка, персидской культуры, даже персидской мифологии и ментальности. У западных исследователей даже появился особый термин для обозначения таких обществ – Persianate society, введенный американским автором Маршалом Ходжсоном. Я пока не нашел адекватных вариантов перевода этого термина на русский язык. Поэтому я предложу свой вариант, который, может быть, не очень точно, но отражает его значение: «Персоидное общество». Тут можно свести воедино все эти термины, которые прозвучали сегодня – тюрко-персидский синтез, персофония, персоидное общество. Все эти термины указывают примерно на одну и ту же реальность – мягкую персидскую силу. Однако эта сила не находила долгое время политического оформления.

Персидский на османской миниатюре / Источник: islamosfera.ru
ПЕРСОИДНЫЙ МИР И МОБИЛИЗАЦИЯ ИСЛАМА ПЕРЕД ЛИЦОМ МОДЕРНА
— С синтезом или симбиозом персов и тюрков более-менее понятно. А был ли какой-то антагонизм между ними? Неужели один только сплошной симбиоз и гармония?
Разумеется, антагонизм изначально присутствовал, но вот благодаря этой мягкой, обволакивающей персидской силе им удалось нейтрализовать тюркский фактор, включить его в персоидный мир и создать некое подобие симбиоза. Хотя в современный период, с началом модернизации, это пространство стало расползаться. С одной стороны, колониализм навязывал новые культурные доминанты, а европейские языки вытесняли персидский и другие персофонные языки, что разрывало естественные связи. С другой стороны, реакцией на этот колониализм стали национальные и национально-освободительные движения, которые начали заниматься строительством наций, лепить их по европейским лекалам, все больше отходя от стандартов персоидного общества. Напротив, национальные культуры и языки выстраиваются по принципу наибольшего отдаления от общемусульманской культуры, подчеркивания самобытности, обращения к доисламским образцам. Вот на этом этапе Турция начала противопоставлять тюркскую идентичность иранской или арабской. В какой-то момент, уже в 1960-е годы, там даже начали развиваться концепции «турецко-исламского синтеза», которые были направлены на примирение турецкого национализма с исламом, и стремились выработать сугубо национальное и тюркское понимание ислама. По аналогичному пути шел шахский Иран. В период династии Пехлеви власть пыталась реанимировать образы доисламского персидского величия, зороастрийскую терминологию. В действительности, и Турция, и Иран шли по пути вестернизации, которая требовала выстраивания политической нации, и обращение к этнической идентичности было лишь внешним оформлением этого процесса.
Это не значит, что персоидный или персофонный мир, мир тюрко-персидского синтеза, окончательно канул в Лету. Его ареал сильно уменьшился, но он сохранился в регионах, где по-прежнему доминировал персидский язык: это Иран, Афганистан, некоторые районы Средней Азии (вроде Бухары и Самарканда), мусульманские регионы Индии и Пакистана. Тюркские народы, вырвавшиеся из этого мира, в основной массе стали возрождать тюркский политический этос, выливавшийся, как правило, в светские авторитарные режимы с националистической идеологией. Я имею в виду Турцию и постсоветские тюркские республики. Турки, к тому же, еще и стали одной из самых европеизированных мусульманских наций. Их опыт секуляризации и модернизации использовался другими мусульманскими странами, прежде всего арабскими.
А вот в сохранившихся на сегодня анклавах персоидного мира всё складывалось иначе. Мы не видим там успешного опыта модернизации, секуляризации, нациестроительства. Там лучше сохранились традиционные структуры мусульманского социума: прослойка улемов, тюркский трайбализм, цеховые организации базара, городская культура махаллей, сообщества футуввы, независимые вакфы. И вот именно в этом пространстве, в котором процессы модернизации и вестернизации натолкнулись на некие непреодолимые препятствия, стали протекать в некой измененной форме, с некими прерывистостями, интересные феномены, связанные с политической мобилизацией ислама. Это происходит в разной форме. В Афганистане в какой-то момент модернизационный проект просто терпит крах, и страна оказывается отброшена обратно в средневековье, оказавшись под властью движения Талибан. Пакистан тоже балансирует где-то на грани, и его спасает от сползания в средневековье только наличие британской административной и правовой системы.

В Афганистане в какой-то момент модернизационный проект просто терпит крах, и страна оказывается отброшена обратно в средневековье, оказавшись под властью движения Талибан / Источник: ru.wikipedia.org
Но по-настоящему интересным среди них является пример Ирана, который прошел через неудачный опыт модернизации под началом националистического монархического режима, породил самую необычную в современной истории человечества революцию, которая смела оба варианта модернизации и интеграции в мир по капиталистическому и социалистическому образцу, и дала Ирану так называемую Исламскую Республику с институтом вилаят аль-факих. Свою роль здесь сыграла специфика именно шиитского ислама, о которой мы говорили в прошлой беседе. И я хочу добавить, что Иран не только обошел стороной предложенные ему модерном варианты развития, создав свою собственную модель, но и сохранил ее до сегодняшнего дня. Более того, он воспользовался эрозией современных политических и социальных институтов на Ближнем Востоке, чтобы продвигать свою модель через разного рода сетевые структуры так называемого Сопротивления, которые являются не иначе, как продолжением средневековой исламской футуввы. Поэтому они достаточно успешно противостоят и клановому трайбализму, и радикальному джихадизму, и регулярным армиям современных арабских режимов, западной коалиции и Израиля.
Таким образом, мы видим, что на переднем крае этого процесса мобилизации исламского мира перед лицом модерна и западного глобального проекта оказалось именно персидское ядро мусульманской цивилизации, выкристаллизовавшееся из персоидного ареала. При этом идеологической основой для этой мобилизации послужил шиизм, который продемонстрировал наибольший интегративный потенциал с точки зрения мобилизации интеллектуальных возможностей ислама. Он сумел соединить философию, рационализм, иджтихад, мистический уклон, инновативность и традиционализм. Поэтому неслучайны претензии нынешнего иранского руководства на «новое исламское цивилизационное строительство», воссоздание исламской цивилизации. Иран, действительно, может в силу указанных обстоятельств стать точкой сборки этой цивилизации, ее ренессанса, потому что сохранил набор ключевых элементов и институтов традиционного исламского социума, в то же самое время продолжив живую преемственность исламской интеллектуальной традиции. Именно поэтому Исламская революция — это совершенно не случайный феномен, для исламского мира это феномен цивилизационного масштаба, запрограммированный самим ходом развития этой цивилизации, и именно поэтому взоры мусульманских стран все равно будут обращены в Иран, а не в те страны исламского мира, которые считаются наиболее успешными кейсами модернизации западного образца.

Исламская революция — это совершенно не случайный феномен, для исламского мира это феномен цивилизационного масштаба, запрограммированный самим ходом развития этой цивилизации / Источник: ft.com
Беседовал Мирхайдар Гаязов
Иран-1979


